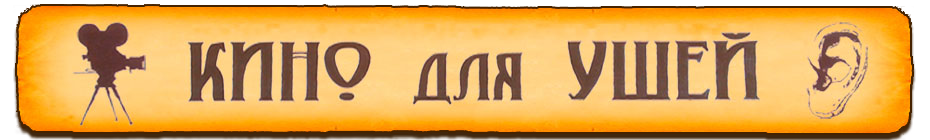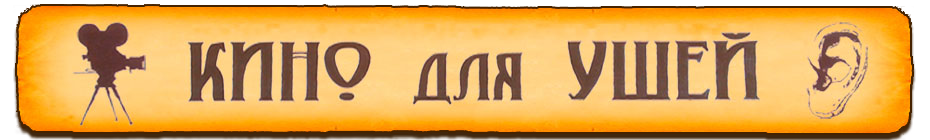Дмитрий Быков: "Михаил Успенский умер во сне, как и полагается праведникам. Было ему 64 года. В последнее время он часто говорил, что долго жить не собирается и к этому не стремится.
Он был очень большим писателем и, вероятно, самым русским человеком, которого я знал: редкостно умным, гениально одаренным, сильным. При этом неуклюжим и по-детски беспомощным во всем, что было ему неинтересно, и стремительным, зорким, неоспоримо профессиональным во всем, что любил и умел. А умел он сочинять, играть со словом, выдумывать чудеса, сюжеты, фантастические обстоятельства, хотя называть его только фантастом я бы не стал… Успенский написал лучшую прозу на русском языке за последние годы - самую изобретательную, цветастую, смешную, динамичную, богатую... Разве не ушли в фольклор шутки из трилогии о Жихаре - романов «Там, где нас нет», «Время оно» и «Кого за смертью посылать»? Разве не разлетелся на парольные цитаты их с Андреем Лазарчуком роман «Посмотри в глаза чудовищ» - наш ответ «Маятнику Фуко», решительно переросший свою пародийную задачу и вырвавшийся за рамки беллетристики?
Успенскому принадлежит блестящая догадка о том, что реализм - надолго задержавшаяся литературная мода, довольно уродливая, и что реванш сказки неизбежен. «В старину рыбаки, уходя в долгое плаванье, брали с собой бахаря, чтобы рассказывал сказки. Представляю, что бы они с ним сделали, если б он начал им рассказывать про их тяжкую долю да про то, как деспот пирует в роскошном дворце!». Успенский полагал, что искусство должно быть праздником, и празднично все, что им написано: «Дорогой товарищ король», «Чугунный всадник», даже мрачнейший из его романов «Райская машина», эпиграфом к которой он взял гриновские слова «Черную игрушку сделал я, Ассоль». В этом романе сказаны страшные слова о том, что фашизм - нормальное состояние человечества. Не было в последнее время более точного изображения нынешней России, с упоением устремившейся назад и вниз. Но и в этой книге Успенский неутомимо насыщает текст фирменными своими шуточками, играя с речью, как с ручным зверем: после Шергина и Коваля никто не чувствовал стихию русской прозы так точно и любовно, никто так не купался в русском языке, не жонглировал цитатами и не каламбурил… Писал он празднично и триумфально, потому что иначе не умел.
Успенский в моих похвалах не нуждается, его Стругацкие и Аксенов называли наследником, лучшим представителем поколения, что к этому добавить?... И, естественно, если кто не читал до сих пор его книг с кислородом живой русской речи и милосердной, роскошной выдумки, - пусть хоть теперь прочтут: сочинения Успенского действуют и на самое черствое сердце, и нам, сегодняшним, они напомнят о возможности другого мира".
Ирина Лукьянова: "Наверное, если нужно найти воплощение русского характера или русского духа, - то далеко ходить не надо, вот он, Успенский: настоящий, доподлинный, из прерусских русский; мастер словесной вязи, создатель летающих кораблей, шутник, бахарь и прозорливец, глядящий вглубь на несколько аршин и вдаль на несколько столетий, - и никакого богатства на том не сколотил, и наступающей тьмы не отогнал - но кто его слышал, тот любил – как своего, родного, понимающего; не так уж мало.
В нем было что-то от архетипического русского медведя из народных сказок – Михаил, да, само собой. И огромность, и сила, кажущаяся неуклюжей и добродушной. И прямота, и юмор, только прикидывающийся безобидным.
Успенский был великим мастером каламбура, шутки, аллюзии, скрытой цитаты; материал, которым он легко жонглировал, был огромен, только успевай узнавать и угадывать. Во многом знании много печали, - потому Успенский бывал глухо печален и мрачен до черноты; впрочем, умел свою черноту не нагонять на других.
От него исходил какой-то глубокий покой. Бывают люди, от которых исходит неблагополучие, беда, радость, - а от Успенского веяло спокойствием. Не помню, чтобы он повышал голос – даже когда был сильно возмущен, говорил тихо, веско, едко, гневно – но никогда не распаляясь. Но видно было, что за внешним уютом, статичностью, за этим покоем – неизвестная, темная глубина, как в лесном озере".
Виктор Шендерович: " "Когда человек умирает, изменяются его портреты".
Это печальное ахматовское наблюдение - и про Михаила Успенского, конечно.
Я пишу это с запоздалым извинением за то, что и мне понадобилась Мишина смерть, чтобы разглядеть масштаб его работы и личности по-настоящему.
Он был одним из нас - обаятельный, лукавый Миша Успенский. Бог знает сколько лет знакомства; дивная ранняя юмористика, уходившая в народ безымянно - лучшее признание для автора! («Аллах акбар - воистину акбар» - это ведь тоже Михаил Успенский).
Он писал для Хазанова - и мог бы всю жизнь возделывать эту бойкую делянку, и без особых усилий стать звездой нашего, прости господи, юмористического цеха.
Но вовремя расслышал предназначение.
В Успенском жил философ, преданный правде и совершенно, кажется, лишенный тщеславия.
Вполне осознанно - и не без легкой тени вызова - лучший ученик Стругацких настоял на своем статусе провинциала и остался в Красноярске, усмехнувшись вослед всем литературным растиньякам.
Он остался, чтобы писать свои романы.
Он писал о главных вызовах и ловушках времени. Его фантастика была не данью мистике и не эксплуатацией бесконечных черно-белых трафаретов Добра и Зла, - она весело задавала жизни больные вопросы и наводила картинку на резкость.
Внутри этого мягкого, совершенно не суперменской внешности человека обнаружился - рыцарь, и этот рыцарь расправил плечи, обретя себя в протагонистах Мишиных романов. И когда он, маргинал путинских поздних времен, пошел в 2014 на антивоенный «Марш Мира» в Красноярске, когда проповедовал добро и разум под оскорбления и улюлюканье нанятых подонков, на полупустой площади стоял - рыцарь. Неуклюжий, толстый, в смешноватой шляпе, - рыцарь и философ, безукоризненно точно подбиравший слова.
Как всегда - безукоризненно точно.
Миша…
Нет больше никакого Миши. Есть недавно ушедший от нас русский писатель Михаил Глебович Успенский. Блестящий прозаик, оставивший по себе замечательные, смешные и страшные, романы, которые нам - читать и читать.
А теперь - и слушать". |